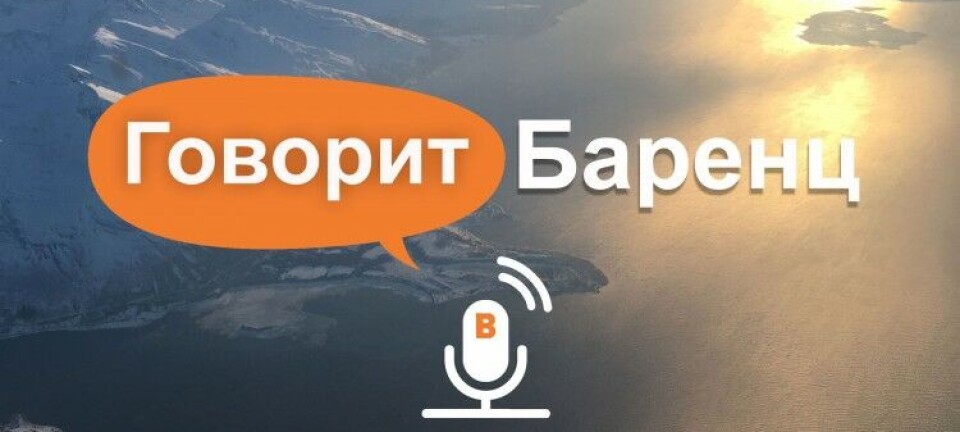“Поезд давно сгорел”. Интервью с БГ — о том, что случилось с Россией и ее жителями
Борис Гребенщиков приехал с концертом в Киркенес. Журналисты Barents Observer поговорили с одним из самых авторитетных российских музыкантов, который после начала войны в Украине лишился возможности выступать на Родине.
— Вы сегодня в Киркенесе, в двадцати километрах от границы. Вы с начала войны когда-нибудь подъезжали настолько близко к России?
— Нет, и меня это совершенно не трогает.
— Почему вы уехали из России 24 февраля?
— Потому что я живу в Лондоне. И я уехал домой.
— Лондон — дом?
— Да.
— А Россия?
— Россия — страна, где я жил в течение 69 лет.
— Дом — это где находится жилище или где твои друзья, твои воспоминания?
— Меня не интересуют воспоминания. Они со мной, и они никуда не деваются. Дом — это там, где я живу сейчас. И там, кстати, полно моих друзей.

— Почему большая часть ваших коллег — люди, с которыми вы выступали в свое время на одной сцене, — сегодня поддерживают войну?
— Люди, которые сейчас поддерживают политику русской власти, всегда были такими.
— Шахрин? Всегда был таким?
— Да.
— И Галанин? И Сукачев?
— Вы никогда не обращали внимание на татуировку на груди у Гарика? Иосиф Виссарионович Сталин. Вы бы стали татуировать Сталина или Гитлера у себя на груди?
— Ни в коем разе.
— Ну вот. Этот ответ на ваш вопрос? Нет, я ничего не имею против того, какую позицию они занимают. Это из право, это их совесть.

— Можете ли вы сегодня слушать таких артистов? Позиция исполнителя и его творчество — для вас это одно и то же, или вы ставите какие-то рамки?
— Вы знаете, как правило, эти вещи неразделимы. Если вы можете себе представить Джимми Хендрикса, играющего песни за войну во Вьетнаме… Я не могу.
Есть люди, которые не до конца додумывают. Может, им хочется, чтобы им было сейчас получше. Или, может быть они, как некоторые люди, которых я знаю, вдруг воспламенились идеями великой России, ради которой нужно убивать всех остальных. Я называю это очень большой недодумкой.
— Несколько дней назад в Москве прошел концерт, на котором хором исполнили песню “Группа крови”. Вы можете себе представить Виктора Цоя на таком концерте?
— Я думаю, Витя очень бы посмеялся.

— Что вы чувствуете, когда думаете о России сегодня, спустя год войны?
— Нежность, любовь. Та Россия, которую я люблю и которую я знаю, никуда не делась. Просто с людьми там сейчас тяжело. Люди, которые мне оттуда пишут, описывают, как там стало тяжело. Но всё бывает. Бывает светло, бывает темно.
— Те, которые делают так, чтобы тем, которые вам пишут, стало тяжело, — они ведь тоже часть России?
— Посмотрите на лица людей, которые выступают по телевизору, ведут разговоры о том и сем. Как они кричат, как они ведут себя, какие у них черты лица в конце концов. Ну по ним всё видно. Знаете, раньше это называлось “урла”.
— Но разве это не часть России?
— Урла — часть России. Но я люблю в России другое. И оно никуда не денется.
— Как вышло, что песня “Поезд в огне”, которую вы написали в 1988 году, получила такую актуальность сейчас? Почему в России ничего не поменялось?
— А я про это ничего не знаю. Он что-то получила? Потому что я ее с тех пор особенно не вспоминал. Тогда она была к месту, а сейчас нет.
— А сейчас поезд не в огне?
— Поезд давно сгорел, остатки выведены в тупик и раскрадены полностью.
— Был период в вашей жизни, когда вы полагали, что жизнь в России поменялась к лучшему?
— Да, это было в 1991 году, в течение примерно полутора суток.
— Почему так мало?
— Я быстро соображаю.
— А что вы увидели потом?
— Увидел то, что происходит вокруг, и почувствовал, что изменяться здесь ничего не будет.
— Почему? Сейчас многие говорят: это все вранье, будто россияне противники демократии, будто у них рабский менталитет. России нужна нормальная власть, и Россия станет нормальной.
— Мне это напоминает письмо, когда русские призывали Рюрика княжить. Мы сами не можем собою управлять: приди и правь нами.

— Тогда какое будущее у России?
— Не будучи пророком Моисеем или вообще пророком, ничего про будущее сказать не могу. Зачем будущее, когда есть только работа в настоящем? Давайте оставим будущее тем людям которым совершенно нечего делать, которые сидят на кухне, пьют водку, дерутся друг с другом из-за прекрасного будущего. В то же время можно заниматься делами. И, кстати, все равно пить водку, это не мешает.
— Есть люди в России, которые считают по-другому, декларируют готовность менять страну. Я имею в виду российскую оппозицию. Часть ее уже сидит в тюрьме…
— Я ничего не знаю про российскую оппозицию. То, что я знаю, из таких ненадежных источников, что я им доверять не могу. То, что пишут в газетах, это не надежные данные. Ни справа, ни слева.

— У музыканта есть возможность повлиять на то, чтобы война остановилась?
— Я говорю — нет. Потому что люди, которые нажимают кнопки, отправляют информацию, принимают решения, касающиеся жизни других людей, не прислушиваются к мнению музыкантов. И мы это все прекрасно знаем, и ваш вопрос — это чистое болтание языком.
— Они не прислушиваются к мнению музыкантов, но они же, в конце концов, люди?
— Нет, вы не понимаете. Они не люди, ими владеет другая сила. И они всё людское, что в них есть, давным-давно угрохали на то, чтобы потакать этой силе. И мы все это знаем. Почитайте, что они говорят, людского там не осталось ничего.

— Неужели у вас, у нас, у тех людей, которые сегодня рисуют флаг Украины на стенах в России и рискуют за это оказаться за решеткой — неужели нет шанса изменить Россию и его не было?
— Скажите, вы можете изменить погоду? По большому счету, вы можете. Если встанут несколько сотен миллионов человек, и начнут дуть вверх, то погода может измениться. Или выкопать новое озеро. Произвести монументальные действия. Конечно, все со временем изменится. Но поймите одну простую вещь. То, что происходит в России, на Украине, во всем мире — это все части одного и того же процесса. Поэтому влиять нужно не на часть процесса, а влиять нужно своим поведением на принцип того, как течет процесс.
— После начала войны в обществе сформулировалось словосочетание “преступная аполитичность”. Оно описывало людей, которые не интересуются политикой, и в итоге допустили…
— Допустили! Господи… Господи, дай мне терпения. Хорошо. Если вы идете против танка, у вас какие надежды? Что танк остановится?
— Он может остановиться.
— Если в нем сидят хорошо выученные солдаты, он не остановится.

— Что вы думаете про Путина?
— Я пытаюсь вспомнить это имя. Я, кажется, слушал эту фамилию где-то, но ничего не помню про него. А что, он заслуживает того, чтобы думать?
— Многие сейчас думают про Путина.
— Если им больше не о чем думать, мне их очень жалко. Лучше думать про Оскара Уайльда.
— В 2010 году вы и еще ряд музыкантов пошли на встречу с Медведевым. Уже всё тогда было понятно, уже состоялась Грузия. Зачем было ходить?
— Мне интересно посмотреть на людей, которые имеют какое-то влияние на мою жизнь.
— Вы могли представить, что этот человек будет писать про хрюкающих подсвинков?
— Нет, он вел себя очень тактично. И казался вполне образованным человеком. Это иллюстрация того, о чем я вам сказал. Что мозг многих из этих людей захватывается определенной сущностью, которую проще сего назвать демоном, и они перестают говорить и думать от себя, они становятся захваченными другой сущностью. Поэтому тогда он был одним, сейчас он другой.

— Почему в Норвегии, Финляндии, Британии люди смогли построить демократическое общество, а в России, которая в 20 километрах отсюда, этого сделать не удалось?
— Наверное, нужно спрашивать пожилых женщин, которые работают у нас в гостинице. И все они удивительным образом говорят по-русски. Удивительное совпадение! Почему-то они не в Мурманске, а здесь.
— Возможно такое, что вы запретите исполнять свои песни в России?
— Нет. Я считаю, что когда я песню спел и записал, она является не моей, она принадлежит всем. Поэтому все, кто хотят ее петь, могут ее петь.
— Даже на концерте в Лужниках?
— Да где угодно. Это их право. Запрещать я ничего никому не буду. Мое искусство давно принадлежит России, но не только России, а всему миру тоже.